
Рекламный баннер 990x90px header-top
79.73
93.56
Рекламный баннер 728x90px center-top
Продолжаем цикл публикаций "След войны в истории моей семьи".
Продолжаем цикл публикаций "След войны в истории моей семьи".
Сегодня нам расскажет свою историю Татьяна Белоусова.
Практически в каждой семье Великая отечественная война оставила свой уродливый след. Моя семья не стала исключением.
Мой дед – Иван Васильевич Кувалдин. В боях за Родину остался жив, но до конца жизни был прикован к костылям и инвалидной коляске.
Он родился 21 ноября 1918 года в деревне Тарасова Ольховского района Курганской области. Мать – Кувалдина Евдокия Тимофеевна. Отец – Кувалдин Василий Игнатьевич. Семья была зажиточная, их пимокатная фабрика с мельницей признаны памятниками архитектуры и по сей день стоят в селе Далматово.
В семье было много детей – было три мальчика (Иван, Николай и Виктор) и одна девочка, моя тёзка – Татьяна, младшая. О судьбе двух старших братьев деда мне ничего, по большому счету, не известно. Знаю, что погибли в боях в начале ВОВ. Татьяна Васильевна – редкой красоты женщина – дожила до наших дней и скончалась в возрасте 87 лет.
Потомков после себя, кроме деда Ивана, никто из них не оставил. Братья не пережили войну, сестра никогда не вышла замуж, а вне брака детей рожать было предосудительно.
На фронт деда Ивана призвали из Свердловской области. Он был женат. К себе в Верхнюю Пышму забрал и младшую сестру. Был он беспартийным, образование было 3 класса. Специальности не имел. Такой была практически вся Красная армия – рабоче-крестьянская. Они едва умели читать и писать, но это не было главным – главной была сила духа. На этом крепком внутреннем стержне зиждилась будущая Великая Победа.
Воевал дед Иван в боях под Старой Руссой. Это были затяжные ожесточенные бои, не прекращающиеся ни ночью, ни днем. Почти два года переходили частицы родной земли из рук в руки – то советской – то фашистской 16-ой армии. 19 марта 1942 года дед получил пулевое ранение в поясничную область с повреждением I-го поясничного позвонка и спинного мозга. 20 марта его вынесли с поля боя и доставили в эвакуационный госпиталь.
Еще два года его, лежачего, перекидывали из одного эвакуационного госпиталя в другой: 291, 10, 85, 42, 3446, 1442, 1496, 1497, 1256, 1251. В апреле 1945 года дед оказался в Омском эвакуационном госпитале 1495.
На тот момент передвигался с помощью двух костылей. Мышцы обеих ног были резко атрофированы, коленные и ахилловы рефлексы отсутствовали, кожная чувствительность также отсутствовала. На основании статьи 10 «А» графы первой расписания болезней приказа НКО СССР от 1942 года №336 был признан негодным с исключением с учета.
Так началась его другая жизнь. А в ней была вторая жена – моя бабка – Федора Федоровна Балышева и их сын – мой отец – Кувалдин Виктор Иванович. Первая жена подала на развод сразу, как пришло письмо о том, что он навсегда останется неходячим инвалидом. Из госпиталя его доставили к сестре Татьяне в Верхнюю Пышму. Она работала в цехе электролиза меди все военные годы, где добросовестным трудом и кротким нравом заслужила уважение заводчан. В больнице он приглянулся санитарке. Санитаркой же была моя бабка Федора, которая, отработав смену в медеплавильном цехе, добровольно шла в больницу ухаживать за теми несчастными, которых массово поставляла война. Это была её гражданская позиция. С бабкой Дорой поженились они 10 октября 1955 года. В конце сентября 1959 года родился мой отец Виктор.
Федору не испугало то, что муж будет навсегда инвалидом, что доля будет тяжела, ведь работать могла только она одна. И работа была не женская – крановщица в медеплавильном цехе. Дом полностью был на ней, тяжелая работа – на ней. Не было даже инвалидной коляски по началу, а это значит – нужно было носить на себе двухметрового мужика. У деда из-за пареза физиологическое оправление не могло осуществляться самостоятельно. Мало приятного ежедневно справлять туалет, пусть даже и собственному мужу. Сейчас задумываюсь и понимаю, что быть женой неходячего инвалида, да еще и фронтовика, которому по ночам снятся все ужасы войны – это тоже геройский подвиг одной маленькой женщины.
Жили они сначала в маленьком деревянном домике по улице Матросова. Когда я была маленькой девочкой, бабка водила меня до этого домика. Даже в наши дни там нет благоустроенных дорог, а в послевоенные годы, когда центральные улицы нашего города были из деревянного настила, там был просто грунт. Это означало, что инвалид не мог никуда передвигаться, нежели как в маленьком замкнутом пространстве жалкой лачуги. Сын их родился преждевременно. Причиной, скорее всего, были вредные условия труда и тяжелый физический труд по дому для моей бабки. Роддом тогда был на том месте, где ныне стоит колесо обозрения. Отец родился на двадцать седьмой неделе беременности. Весом… в 750 грамм. Его выкинули в ведро с абортными остатками. И стали выгонять бабку домой. Но она увидела, что ее ребенок задвигался. Подобрала его в рубашку и убежала домой к своему Ивану.
Дед на протяжении полугода беспрестанно топил баню, чтобы было тепло. Сначала держал ребенка в меховой шапке, затем, к весне, сам сшил меховой мешок для него. И вЫходил. Представьте себе: без аппарата ИВЛ, без медицинского образования, без препаратов. Сам. Пожалуй, это был его главный геройский подвиг.
Затем, когда ребенок чуть окреп и стал ходить, они переехали в барак, где бабке от медеэлектролитного завода дали комнату с удобствами.
По рассказам моей матери, которая жила по соседству с семьей моего отца в так называемом десятом квартала (сейчас там стоит гостиница Уралэлектромедь), дед Иван был общительным, отзывчивым и очень любил детей. Все дворовые дети просили: – Дядя Ваня, покатай на своей коляске!
Сохранились самодельные инструменты деда Ивана – шильца для дратвы, шумовка. В начале шестидесятых трудно было купить вообще что либо. Кто умел – делал сам. Так дед Иван шил людям добротную кожаную обувь, куртки. Делал жестяные приборы для кухни.
Государство под конец жизни выделило деду автомобиль Запорожец с ручным управлением. Это было для него необыкновенным счастьем. Дед с детства любил лес. И тут он снова смог открыть для себя мир, после 25 лет в четырёх стенах. Неходячий инвалид смог научить моего отца искать грибы, ягоды и распознавать их. Потом эта наука передалась нам с братом. Каждое лето хожу в лес на «дедовы места».
Любил дед Иван фотографировать. И эту любовь к творчеству он также передал сначала отцу (помню, как пленки проявлялись в ванной и сушились вместо белья на веревках), затем уже я, спустя много десятилетий, полюбила фотографию в качестве модели.
Скончался мой дед Иван Васильевич 30.07.1976 г. в возрасте 57 лет в результате хронической почечной недостаточности вследствие ранений, полученных на фронте. В живых я его не видела. И знаю точно: без него не было бы ни отца, ни меня, ни моего брата, ни наших детей. Без каждого человека, прошедшего ту великую войну, и внесшего свою жизнь за Великую Победу, не было бы нас, нашей страны. Но, по сути, они навсегда будут с нами – будут живы в нашей памяти. И важно помнить, что от каждого из нас сегодняшних, от наших поступков и мыслей, зависит то, каким будет наше завтра. И ничего нет прекрасней самой возможности жить.
Сегодня я рассказываю вам о своем деде Иване, чтобы помнить. А душа его 9 мая уже 2018 года пройдет вместе с нами в бессмертном полку Великой Победы по нашей свободной и красивой стране!
Сегодня нам расскажет свою историю Татьяна Белоусова.
Практически в каждой семье Великая отечественная война оставила свой уродливый след. Моя семья не стала исключением.
Мой дед – Иван Васильевич Кувалдин. В боях за Родину остался жив, но до конца жизни был прикован к костылям и инвалидной коляске.
Он родился 21 ноября 1918 года в деревне Тарасова Ольховского района Курганской области. Мать – Кувалдина Евдокия Тимофеевна. Отец – Кувалдин Василий Игнатьевич. Семья была зажиточная, их пимокатная фабрика с мельницей признаны памятниками архитектуры и по сей день стоят в селе Далматово.
В семье было много детей – было три мальчика (Иван, Николай и Виктор) и одна девочка, моя тёзка – Татьяна, младшая. О судьбе двух старших братьев деда мне ничего, по большому счету, не известно. Знаю, что погибли в боях в начале ВОВ. Татьяна Васильевна – редкой красоты женщина – дожила до наших дней и скончалась в возрасте 87 лет.
Потомков после себя, кроме деда Ивана, никто из них не оставил. Братья не пережили войну, сестра никогда не вышла замуж, а вне брака детей рожать было предосудительно.
На фронт деда Ивана призвали из Свердловской области. Он был женат. К себе в Верхнюю Пышму забрал и младшую сестру. Был он беспартийным, образование было 3 класса. Специальности не имел. Такой была практически вся Красная армия – рабоче-крестьянская. Они едва умели читать и писать, но это не было главным – главной была сила духа. На этом крепком внутреннем стержне зиждилась будущая Великая Победа.
Воевал дед Иван в боях под Старой Руссой. Это были затяжные ожесточенные бои, не прекращающиеся ни ночью, ни днем. Почти два года переходили частицы родной земли из рук в руки – то советской – то фашистской 16-ой армии. 19 марта 1942 года дед получил пулевое ранение в поясничную область с повреждением I-го поясничного позвонка и спинного мозга. 20 марта его вынесли с поля боя и доставили в эвакуационный госпиталь.
Еще два года его, лежачего, перекидывали из одного эвакуационного госпиталя в другой: 291, 10, 85, 42, 3446, 1442, 1496, 1497, 1256, 1251. В апреле 1945 года дед оказался в Омском эвакуационном госпитале 1495.
На тот момент передвигался с помощью двух костылей. Мышцы обеих ног были резко атрофированы, коленные и ахилловы рефлексы отсутствовали, кожная чувствительность также отсутствовала. На основании статьи 10 «А» графы первой расписания болезней приказа НКО СССР от 1942 года №336 был признан негодным с исключением с учета.
Так началась его другая жизнь. А в ней была вторая жена – моя бабка – Федора Федоровна Балышева и их сын – мой отец – Кувалдин Виктор Иванович. Первая жена подала на развод сразу, как пришло письмо о том, что он навсегда останется неходячим инвалидом. Из госпиталя его доставили к сестре Татьяне в Верхнюю Пышму. Она работала в цехе электролиза меди все военные годы, где добросовестным трудом и кротким нравом заслужила уважение заводчан. В больнице он приглянулся санитарке. Санитаркой же была моя бабка Федора, которая, отработав смену в медеплавильном цехе, добровольно шла в больницу ухаживать за теми несчастными, которых массово поставляла война. Это была её гражданская позиция. С бабкой Дорой поженились они 10 октября 1955 года. В конце сентября 1959 года родился мой отец Виктор.
Федору не испугало то, что муж будет навсегда инвалидом, что доля будет тяжела, ведь работать могла только она одна. И работа была не женская – крановщица в медеплавильном цехе. Дом полностью был на ней, тяжелая работа – на ней. Не было даже инвалидной коляски по началу, а это значит – нужно было носить на себе двухметрового мужика. У деда из-за пареза физиологическое оправление не могло осуществляться самостоятельно. Мало приятного ежедневно справлять туалет, пусть даже и собственному мужу. Сейчас задумываюсь и понимаю, что быть женой неходячего инвалида, да еще и фронтовика, которому по ночам снятся все ужасы войны – это тоже геройский подвиг одной маленькой женщины.
Жили они сначала в маленьком деревянном домике по улице Матросова. Когда я была маленькой девочкой, бабка водила меня до этого домика. Даже в наши дни там нет благоустроенных дорог, а в послевоенные годы, когда центральные улицы нашего города были из деревянного настила, там был просто грунт. Это означало, что инвалид не мог никуда передвигаться, нежели как в маленьком замкнутом пространстве жалкой лачуги. Сын их родился преждевременно. Причиной, скорее всего, были вредные условия труда и тяжелый физический труд по дому для моей бабки. Роддом тогда был на том месте, где ныне стоит колесо обозрения. Отец родился на двадцать седьмой неделе беременности. Весом… в 750 грамм. Его выкинули в ведро с абортными остатками. И стали выгонять бабку домой. Но она увидела, что ее ребенок задвигался. Подобрала его в рубашку и убежала домой к своему Ивану.
Дед на протяжении полугода беспрестанно топил баню, чтобы было тепло. Сначала держал ребенка в меховой шапке, затем, к весне, сам сшил меховой мешок для него. И вЫходил. Представьте себе: без аппарата ИВЛ, без медицинского образования, без препаратов. Сам. Пожалуй, это был его главный геройский подвиг.
Затем, когда ребенок чуть окреп и стал ходить, они переехали в барак, где бабке от медеэлектролитного завода дали комнату с удобствами.
По рассказам моей матери, которая жила по соседству с семьей моего отца в так называемом десятом квартала (сейчас там стоит гостиница Уралэлектромедь), дед Иван был общительным, отзывчивым и очень любил детей. Все дворовые дети просили: – Дядя Ваня, покатай на своей коляске!
Сохранились самодельные инструменты деда Ивана – шильца для дратвы, шумовка. В начале шестидесятых трудно было купить вообще что либо. Кто умел – делал сам. Так дед Иван шил людям добротную кожаную обувь, куртки. Делал жестяные приборы для кухни.
Государство под конец жизни выделило деду автомобиль Запорожец с ручным управлением. Это было для него необыкновенным счастьем. Дед с детства любил лес. И тут он снова смог открыть для себя мир, после 25 лет в четырёх стенах. Неходячий инвалид смог научить моего отца искать грибы, ягоды и распознавать их. Потом эта наука передалась нам с братом. Каждое лето хожу в лес на «дедовы места».
Любил дед Иван фотографировать. И эту любовь к творчеству он также передал сначала отцу (помню, как пленки проявлялись в ванной и сушились вместо белья на веревках), затем уже я, спустя много десятилетий, полюбила фотографию в качестве модели.
Скончался мой дед Иван Васильевич 30.07.1976 г. в возрасте 57 лет в результате хронической почечной недостаточности вследствие ранений, полученных на фронте. В живых я его не видела. И знаю точно: без него не было бы ни отца, ни меня, ни моего брата, ни наших детей. Без каждого человека, прошедшего ту великую войну, и внесшего свою жизнь за Великую Победу, не было бы нас, нашей страны. Но, по сути, они навсегда будут с нами – будут живы в нашей памяти. И важно помнить, что от каждого из нас сегодняшних, от наших поступков и мыслей, зависит то, каким будет наше завтра. И ничего нет прекрасней самой возможности жить.
Сегодня я рассказываю вам о своем деде Иване, чтобы помнить. А душа его 9 мая уже 2018 года пройдет вместе с нами в бессмертном полку Великой Победы по нашей свободной и красивой стране!
77675
Рекламный баннер 728x90px center-bottom
Поделитесь новостями с жителями города

Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
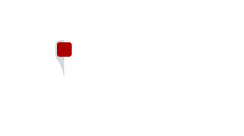
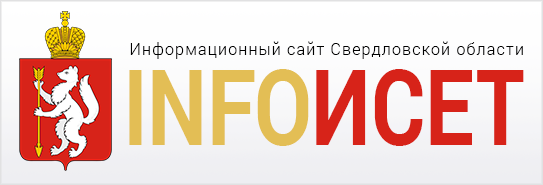

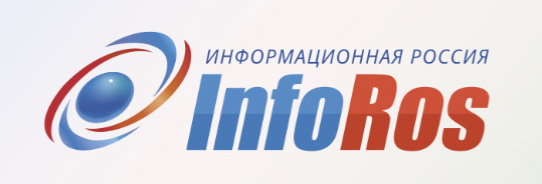

Оставить сообщение: